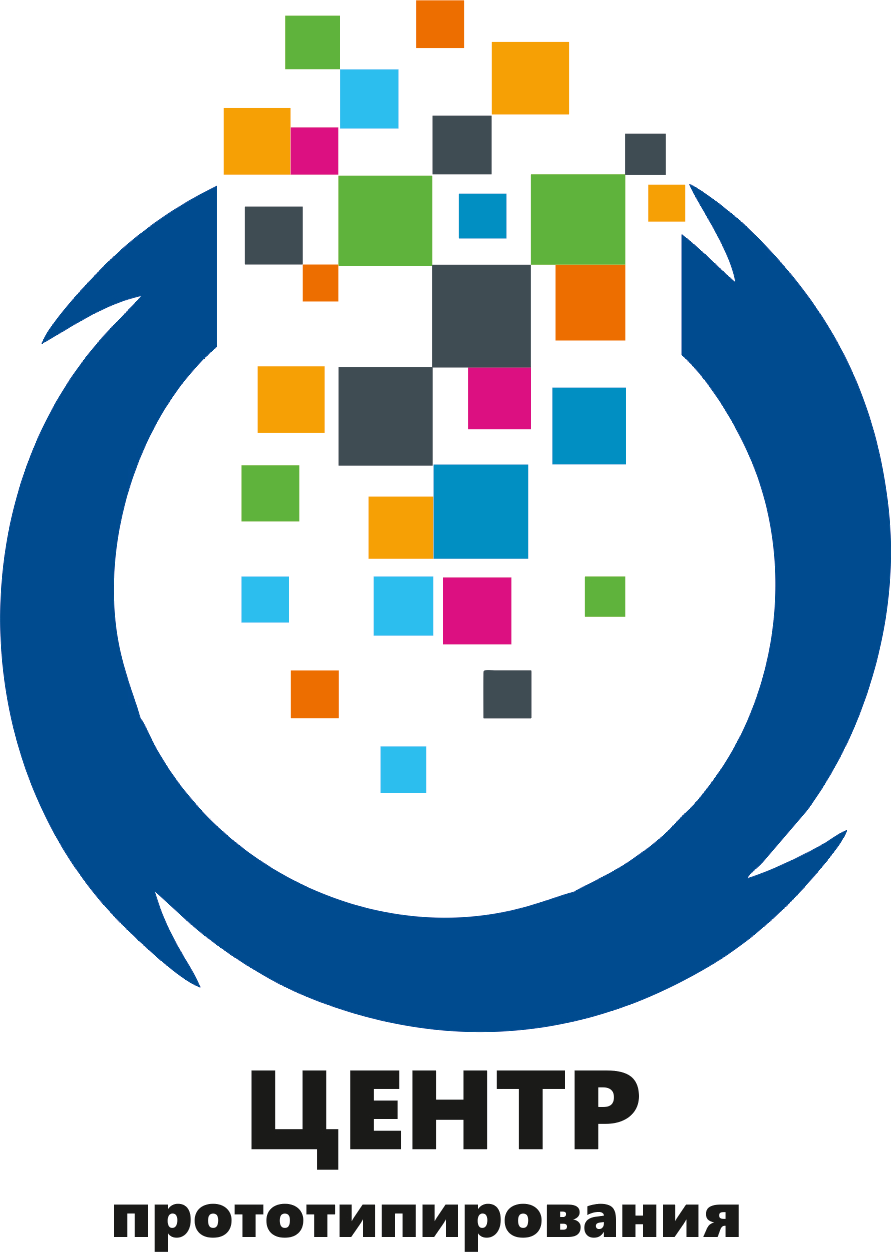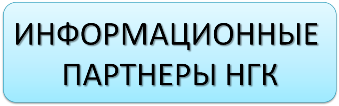|
Завершилась проходившая 16 и 17 марта Международная конференция, посвященная перекрестному году регионального сотрудничества России и Франции |
О мероприятии
В научном мероприятии приняли участие более 40 докладчиков из разных городов России и Европы. Большая разница в часовых поясах (6 часов!) продиктовала направление Программы конференции с Востока на Запад: «двигались» от Якутии и Бурятии к Томску, Тюмени, Красноярску, далее к Перми, Нижнему-Новгороду, Петрозаводску, Санкт-Петербургу, наконец, к Парижу. Огромный интерес к франко-российской тематике показала, что у наших культурных взаимоотношений богатое прошлое, интенсивное настоящее и большое будущее.
В конференции прозвучали доклады, связанные с изучением наследия мастеров двух стран,российско-французскими творческимисвязями, судьбой музыкантов. О значении французского искусства для российских музыкантов говорили Н.Н. Покровская, К.С. Серков, об интересе французов к Сибири и России – Т.В. Павлова-Борисова, Л.Н. Санжиева. Истории исполнения французских сочинений в Сибири представляли О.А. Светлова, С.П. Вавилов, С.С. Сырвачева. Тему раритетных французских изданий развивали О.В. Крупцева, М.Г. Долгушина. Среди композиторов-юбиляров особо был отмечен Дж. Мейребер (М.Г. Карпычев, Л.А. Купец), отдельный блок составили доклады, посвященные О. Мессиану (С.С. Гончаренко, И.Р. Черешнюк и Н.Н. Алексеева, Н.В. Санникова и М.Красилова). Интерес к французской музыке продемонстрировали доклады Н.В. Багинской, Г.А. Никулина, А.А. Василенко, Г.А. Еременко, студентов Е. Тарасевич, Д. Цильке, М. Порубиной, Е. Олейниковой. Русское искусство на французских сценах обсуждалось Д. Любимовым, Е.Ю. Шигаевой, новейшие опыты постановок во Франции осветили Л.В. Гаврилова, Т.А. Беляева.
Отдельной яркой страницей в конференции стали доклады зарубежных коллег – М. Кристиани, О.К. Русаковой, А. Томассана, Ж. Сант-Ива, А. Быстрицкой-Монтенан, Д. Буччо. Наконец, особое место заняли сообщения о судьбе и творчестве Эдисона Денисова (Е. Денисовой – дочери композитора, Е.Купровской-Денисовой (его вдовы), А. Сафронова.
Благодарим советника по сотрудничеству и культуре Посольства Франции и России г-на Руссо и заместителя Министракультуры НСО Г.В. Милогулова за поддержку конференции.
Приветственное слово
Интервью
Наколя Бакри: искусство, сохранившее связь с традициями, – это то, что может помочь ему спастись
Интервью AlainSteffen с Николя Бакри
Окончил Парижскую консерваторию (1983), ученик Клода Баллифа, Сержа Нига и Мишеля Филиппо. Лауреат Римской премии 1983 г. Будучи главой департамента камерной музыки Радио Франс с 1987 по 1891 г. организовал цикл премьерных исполнений произведений композиторов, погибших в концентрационном лагере Терезин, – Павла Хааса, ГидеонаКляйна, Ганса Краса и Виктора Ульманна. Преподавал оркестровку в Женевской консерватории и композицию в консерватории в Париже. В 2013 г. премьерным исполнением «Четырех картин для оркестра» Бакри дебютировал в качестве дирижера с Лондонским симфоническим оркестром. В авторском каталоге Николя Бакри более 150 опусов, среди которых 7 симфоний, концерты для солирующих инструментов с оркестром, вокальная и фортепианная музыка, 9 струнных квартетов и множество ансамблевых сочинений для различных сочетаний струнных и духовых инструментов.
— Мистер Бакри, действительно ли современная музыка, как вы выразились в своей книге «Кризис», ничейная земля, чистилище?
— В нейтральной зоне не современная музыка, а современные композиторы. Современная музыка, по крайней мере, музыка, которую я люблю, – яркая, богатая, многогранная и предлагает сегодняшним исполнителям и меломанам прекрасные звуковые ландшафты и прекрасные философские и поэтические перспективы. Она в порядке.
Сегодня великих композиторов намного больше, чем было во времена Баха, Моцарта или Вагнера. Единственное отрицательное отличие от предыдущих эпох в том, что есть еще и плохо подготовленные композиторы. Композиторы, которые считают, что композицию нельзя обрабатывать методом, и, следовательно, имеют технические недостатки. Ранние эпохи так же богаты второстепенными композиторами, как и сегодня, но среди этих посредственных композиторов нет таких плохо подготовленных композиторов, как худшие композиторы современности. С другой стороны, осмелюсь сказать, что наше время богаче композиторами уровня, сопоставимого с величайшими композиторами предыдущих эпох; это продиктовано демографией, но также и демократизацией музыкального образования.
К сожалению, сегодняшних лучших авторов песен не слышит большинство тех, кто действительно заботится о музыке (то есть тех, кто предпочитает Онеггера Эдит Пиаф и Роберта Симпсона «Beatles»). Фактически, они находятся в чистилище, в нейтральной зоне, созданной с нуля нашей эпохой, увы, которая предпочла сделать свое послание неслышимым, покрывая его толстым слоем тайны («Современная музыка, это сложно, это сложно, агрессивно и / или интеллектуально »…). Или заменив его чисто и просто музыкальным развлечением, которое является формой выразительной практики, популярной на различных этапах его индустриализации (песня, рок, рэп …), чисто коммерческой, с целью ошеломить массы.
Мы достигли такого ошеломляющего уровня в этом вопросе, что во время литературной передачи по французскому телевидению в феврале 2006 года, то есть через двести пятьдесят лет почти на следующий день после рождения Моцарта, ГийомДюран спросил писателей, которые у него только что взяли интервью для своих недавних публикаций:
«Как вы думаете, кто такой сегодняшний Моцарт?» Перед наступившей тишиной он попытался ободрить их, спросив: «… Бенджамин Биолай? Жан-Жак Гольдман? … ».
Однако в принципе писатели – это люди, получившие образование, которое должно позволить им иметь минимум знаний о музыкальном искусстве всех эпох, не говоря уже о своих собственных.
Так что да, то, что я сказал в своей книге «Иностранные записки» о чистилище, в котором оказались современные композиторы, совершенно верно. Боюсь, это ужасно верно.
— Следует ли объяснять публике современное произведение? Должны ли мы, как слушатели, заниматься интеллектуальной работой или просто слушать музыку и позволять себе поражаться ее звукам, цветам, динамике и атмосфере? Музыка как чувственное желание.
Вы должны это слушать и любить.
Возможно, вам захочется послушать ее несколько раз, прежде чем вы действительно полюбите ее. Но вы должны почувствовать эту потребность. Если вы чувствуете отвращение, отвращение к тому, что вы слушаете, нет смысла мучить себя. В чем смысл?
Его также не следует путать с самогипнозом, чувством восторга и откровения, которое переполняет вас при многократном прослушивании музыкального произведения, язык которого сначала был вам не знаком, но который вас достаточно заинтриговал и к нему снова возвращаешься. Когда работа действительно волнует вас, именно ваше сердце объединяется с вашим интеллектом, чтобы заставить вас расти. Когда вы пытаетесь постоянно слушать то, что вам кажется неприятным, и в конечном итоге заставляете себя поверить, что вам это нравится, это самовнушение. Это знаменитый «метод Куэ», сильно критикуемый во Франции, откуда он пришел, но который имел огромный успех в Соединенных Штатах, где его первооткрыватель решил обосноваться под названием «позитивное мышление».
Самогипноз – прекрасная вещь, когда его используют по полезным причинам, включая здоровье или психологию. Но это также может быть способность некоторых людей (часто самых молодых или тех, кто воображает, что они остались молодыми) воображать, что они могут утверждать, что любят то, что нужно любить, чтобы «держать нос по ветру». В данном случае это просто социальный навык, простая способность адаптироваться к вкусу дня. Это не любовь к искусству, это суть снобизма.
Пытаться понять внутреннее устройство произведения, которое вы уже любите, – замечательная вещь, особенно когда вы можете поговорить об этом с самим композитором. Поэтому лекции композиторов всегда интересны. При условии, конечно, что те, кто приходят ее послушать, исходят не из простого любопытства (или снобизма), а из любви к искусству. Были времена, когда я пробуждал неподдельный интерес к своей музыке на конференциях у людей, которые были с ней незнакомы. Но мой «секретный ботинок» – это просто слушать записи моей музыки во время лекций. В любом случае, мы должны свернуть себе шею из этой наивной веры в то, что слушателю понравится ваша музыка, потому что он думает, что понимает ее. Сначала нужно любить, а затем, в конце концов, попытаться понять.
— Вы также говорите, что «композитор глубоко чувствует потребность писать музыку, которой ему не хватает». Как проявляется этот недостаток? Сознательный или бессознательный недостаток?
— Я осознаю этот недостаток.
Я бы не уставал писать музыку, если бы думал, что все уже сказано и сделано. Я бы не стал писать, если бы смог реализовать себя как человек, довольствуясь только тем, что слушал и исполнял уже существующие шедевры. Написание музыки – это самое важное в моей жизни, поскольку я понял, что я создан для этого, что я знал, как это делать, пусть и несовершенно, с четырнадцати лет.
Музыкальное произведение – это призма, сквозь которую мне предстали жизнь и мир во всем своем великолепии и во всей своей сложности. Письмо – это испытание, а не наркотик. Я не графоман. При этом без обесценивания графоманов. Некоторые великие композиторы были графоманами, я, очевидно, имею в виду Шуберта.
— Вы достаточно разносторонний и очень продуктивный композитор. 150 произведений, в том числе оперы, хоровая музыка, камерная музыка, произведения для фортепиано. Как ты сочиняешь?
— Долгое время я писал в среднем по три-четыре работы в год. Иногда меньше, иногда больше … До шести работ в хорошие годы.
Если разделить сто шестьдесят опусов на сорок пять лет, получится 3,5. Три с половиной года работы – это много? Сегодня так кажется, потому что люди продолжают мне указывать на это. Это даже кажется чересчур; и мы возвращаемся к идее «чистилища», которую можно выразить словами: «Не пиши слишком много, потому что здесь нет места для твоей музыки». А что мы скажем о Моцарте, писавшем более двадцати произведений в год? О Бахе? Генделе?
Вы ответите: «Но писали на заказ».
Я тоже.
Сначала я писал, чтобы доказать другим и себе, что я умею писать. С девяностых годов я писал почти исключительно по команде, и моя продуктивность была стабильной с самого начала, с восьмидесятых. Так что команды не заставляли меня писать больше, чем то, что я «естественно» писал без команд. Я ставлю кавычки «естественно», потому что глубоко верю, что для композитора естественно писать на заказ. И добавлю, что так же естественно для композитора, которому не велят молчать и перестать беспокоить исполнителей, чтобы они играли его музыку, когда они ни о чем его не просили …
Популярный сегодня композитор может получать до десяти комиссионных предложений в год. Он может принять почти все из них, как Вольфганг Рим, или почти все из них, как Дютийе; или взять три четверти, или треть, как в моем случае. Это означает, что я получаю в среднем от четырех до восьми в год.
Во времена Моцарта композиторам приходилось принимать все. Если у них не было времени, они заставляли коллег писать, как это сделал Майкл Гайдн, когда попросил Моцарта дуэт для скрипки и альта, который брат великого Иосифа подписал вместо него.
Меня часто спрашивают, считаю ли я работу по заказу такой же важной, как работу, которая не так важна. Я всегда отвечаю, что не делаю различий между ними и что, если бы мне пришлось, я бы уделил больше внимания работе, которая мне поручена.
Работа, которую я решаю написать самостоятельно, обычно занимает намного больше времени, чем другая, чтобы увидеть свет. Это не означает, что он будет более совершенным, чем работа, написанная за несколько месяцев. Время не имеет значения (LeMisanthrope). Она всего лишь объект моего желания, концертов не планируется. Моей Sonatadacamera, например, потребовалось четыре года, чтобы обрести окончательную форму, так как я должен был посвятить большую часть своих усилий выполнению более срочных заказов. В конце концов, именно музей Клода Дебюсси «заказал» его мне, место, где исполнитель нашел премьерный концерт, задолго до сочинения произведения. Директор музея хотел вознаградить меня, пусть даже символически, за проделанную работу, и это решение было принято за неделю до концерта. Так что это был не «настоящий» приказ.
Моя «Симфония да Реквием» ждала двадцать лет, прежде чем была исполнена. К счастью, это добавление нескольких кантат и симфонических пьес, которые были заказаны у меня отдельно и которые также исполнялись отдельно. Но в его общей форме, которая длится более часа, меня об этом не спрашивали.
— Люксембургский пианист только что записал некоторые из ваших произведений и сравнил их вживую с произведениями Мясковского, композитора, которого вы считаете очень высоким. Каким вы видите это созвездие программы?
— Для меня большая честь поделиться этой пластинкой одного из лучших пианистов Европы со своим старшим братом Мясковским. Всегда замечательно, когда талантливый исполнитель выбирает его, чтобы помочь ему выразить идею, которую он хочет воплотить на концерте или в записи.
Название альбома было выбрано по степени воссоздания фантастической атмосферы и даже готики, подсказанной гармоничным языком произведений Мясковского. Слушая Вторую сонату Мясковского, легко представить себе ночную прогулку по заброшенному замку, наводненному летучими мышами, где, возможно, бродят несколько (все еще) злонамеренных вампиров… (Смеется). И у слушателя, незнакомого с моим музыкальным языком, впечатление будет такое же, я думаю.
Идея Mysteries, помимо легкой живописности названия, состоит в том, чтобы инициировать воображаемый диалог между двумя композиторами из разных стран и поколений, родство которых проявляется в их аналогичном использовании полифонии и строгости формы в ее кажущейся свободе, и то и другое. объединившись в интенсивном использовании энергии на одной и той же трагической основе.
Моя Третья соната (Sonataimpetuosaop. 122) записана в память о Мясковском. Ее заказала мне французская пианистка, покойная БрижитЭнжерер, которая сама была ученицей Нейгауза в Москве и провела фортепианный фестиваль Pianoscope (Бове), на котором выступали многие из ее самых выдающихся учеников. Поэтому в 2011 году его создал очень молодой и очень гениальный Джонатан Фурнель.
Бывает также, что мои друзья Юрий Фаворин и Лидия Жардон недавно исполнили Сонату № 3 Мясковского, которая пробудила мое воображение (гораздо большее, чем у Рихтера), и поэтому я решил «ответить Мясковскому» своей собственной Третьей сонатой, славянской по цвету, через десятилетия, разделяющие эти две работы.
Именно это и натолкнуло Сабину Вейер на мысль представить диалог на своем диске, добавив мою Вторую сонату op. 105 и мою Фантазию op. 134, объединив, таким образом, на одном диске три моих самых значительных сочинения для фортепиано, написанных на сегодняшний день. Сразу скажу, что результат потрясающий. Были соблюдены все условия, чтобы сделать эту пластинку крупным музыкальным событием: качество фортепиано Bösendorfer и его настройки, звукозаписи … Конечно, не мне оценивать эту пластинку, но она важна для меня. Кажется, что мы не можем не заметить, помимо связности программы, дыхание и мощь, которые обязаны своему исполнителю как счастливому соединению шести партитур, таким образом объединенных и увеличенных.
Мясковский – крупный композитор ХХ века, еще малоизвестный на Западе, когда он прославился в СССР. Славе, которой завидовал Шостакович (он доказывает это в своих Воспоминаниях), которой, однако, нечего было завидовать никому на той стороне. Скромность Мясковского, а также его пылкий коммунизм побудили его категорически отказаться от предложения LeChantduMonde распространять свою музыку на Западе. Однако эти издания были основаны в 1921 году французскими коммунистами для пропаганды шедевров Шостаковича, Кабалевского, Хачатуряна, Прокофьева и… Мясковского! Но он откажется от предложенной ему привилегии, и после его смерти его наследники так же, как и он, с ужасом восприняли тот факт, что иностранное издание капиталистической страны могло обогатиться, пусть даже скромно, благодаря своей музыке. Примерно за последние десять лет наследники передумали, но ущерб уже нанесен. У западных переводчиков не хватает инстинкта обращаться к богатому каталогу Мясковского, чтобы посмотреть, что они там могут найти.
Даже если все не на том же уровне, что и в двух фортепианных сонатах, записанных на этом диске, среди самых красивых, написанных в ХХ веке, в 27 симфониях Мясковского есть очень важные партитуры, я имею в виду, в частности, No. 21 (это была первая работа, которую я услышал от него). Тринадцать струнных квартетов образуют более однородный ансамбль, чем симфонии, и являются одними из величайших достижений жанра. Две сонаты для виолончели прекрасны. Жаль, что он больше не писал камерную музыку с фортепиано.
— Как вы сами опишете свои две записанные сонаты?
— Мои фортепианные сонаты № 2 и 3 – форма в нескольких связанных частях. Тематический материал, раскрытый в первой части, взят и преобразован в различных частях контрастных шагов, которые структурируют классические и романтические сонаты (Скерцо, Адажио и Финал).
Конечно, истоки этой концепции можно найти в знаменитой Сонате си минор Листа. Эта идея не нова, поэтому трансформировать (варьировать) темы, раскрытые в первой части, чтобы сделать их самим материалом для следующих частей, создала настоящее обновление классических и романтических музыкальных концепций, опираясь на них. Это моя концепция современности. И, к счастью, – это не только мое!
Фактически, это вопрос предложения слушателю интегрированного развития и, следовательно, интеграции контраста в большом масштабе, как правильно сказал музыковед Ганс Келлер, определив блестящим синтетическим способом дух сонатной формы. И это позволяет мне синтезировать сонатную форму классики и романтики и дух вариации, который сильно развился во время атональных переживаний венского авангарда в начале двадцатого века, переживания, которые я, очевидно, впитал. в мой первый творческий период.
— Я снова возвращаюсь к вашей книге, где вы упоминаете, что сам акт творения находится в кризисе. Опять? После мелодичного тона, Второй мировой войны, после Дармштадта? В то время, когда кажется, что в музыке все разрешено и возможно?
— Я считаю, что нынешний кризис, который мы переживаем, заключается не в том, что «все кажется возможным», а в том, что псевдоэлита думает, что возможно только то, о чем они думают. Итак, сегодня мы находимся в ситуации, когда «одна мысль», и не только в музыке, проявляется во всем своем ужасе, во всех сферах.
Музыка должна не только играть роль символического маркера нашего времени, она также должна указывать нам правильное направление, чтобы здравый смысл взял верх. Мне кажется, если вернуться к Канту, который сказал, что «Музыка – это язык эмоций», что именно с точки зрения эмоций музыка должна будет позволить человеку сегодня и завтра, потому что музыкальное искусство создано, чтобы длиться вечно, чтобы реинвестировать область эмоций. Этот вопрос кажется мне тем более важным, поскольку происходящая сейчас цифровизация мира кажется мне величайшей угрозой, которую когда-либо знало человечество. Самое меньшее, что может сделать сегодня музыкант, – это избежать символического сопровождения этой дегуманизации.
Вот почему мне кажется более фундаментальным, чем когда-либо, противостоять искушению следовать моде, состоящей в написании музыки, в которой отсутствуют вся гармония и вся мелодия, и развивать только поиск тембра. Ведь именно в гармонии и мелодии глубокие и неотъемлемые характеристики стиля композитора вписаны, другими словами, в ДНК человеческой идентичности. В то время как «шум», который обязательно возникает в результате поиска тембра (например, по примеру Лахенмана), предлагает символическое соответствие самому ужасающему технонаучному обществу, вырисовывающемуся на трагическом горизонте человеческой судьбы. Горизонт, на котором человек будет лишь тенью самого себя.
Конечно, ни Шенберг, ни Булез не могли этого предвидеть, когда они теоретизировали свои модернистские принципы в своей столь сектантской манере. Однако факт в том, что, подвергая сомнению традиционный западный гуманизм, они невольно подготовили почву для дегуманизации общества, следствия «смерти субъекта», за которую выступали антигуманистические философы послевоенного периода. Мы можем только сожалеть о том, что такое положение вещей способствует окончательному порабощению, которое назревает сегодня и о котором так хорошо говорил Оруэлл в нашей книге AlasProphétique, 1984.
— Что заставляет вас сочинять, выражать себя? Личная, интеллектуальная, математическая, эмпирическая потребность…?
— Что заставляет меня писать, так это тот недостаток, о котором я уже говорил, отвечая на ваш третий вопрос. Конечно, это личная потребность. Интеллект – это способность к сочинению, математика может быть средством композиционной организации, очень ограниченным, на мой взгляд, и который был очень модным в шестидесятые годы, когда многие композиторы дармштадтской школы считали композиторствопаранаучным экспериментом.
Мне кажется, что у нас достаточно ретроспективного взгляда на этот период, чтобы сказать, что эти эксперименты были безрезультатными.
Это напоминает мне Пьера Шеффера, которым я очень восхищаюсь, не за его музыкальные качества, которые были абсолютно нулевыми, как он сам признавал, а за его исключительные интеллектуальные качества и его честность, качества, которые крайне редки среди художников …
Я встречался с ним дважды в конце лекций, которые он читал, и в начале которых он любил говорить: «Электроакустическая музыка – это опыт … неудачный!»
— Ваши сценические произведения не превышают 60 минут, за исключением вашей симфонии № 7, которая длится 75 минут, ваши произведения редко превышают 20 минут. Что в целом можно сказать о продолжительности современных произведений?
— Если мои оперы не превышают шестидесяти минут, то это потому, что на данный момент мне не заказывали более длинную оперу. Я сожалею об этом и надеюсь, что прежде, чем я покину этот мир, у меня будет возможность написать оперу продолжительностью более двух часов на драматическую тему. Два с половиной часа кажутся мне максимумом, потому что, несмотря на мое большое восхищение Вагнером, мне кажется, что эта продолжительность может позволить достаточное развитие сюжета и психологии персонажей. Мне также кажется, что опера должна иметь собственно симфоническое значение, с узнаваемыми и разнообразными темами, как в симфонии (и, следовательно, играть в памяти слушателя). Однако через слишком долгий период времени это в конечном итоге потеряло бы свое влияние.
Большая часть моей музыки выражена в довольно сжатых формах. Ненавижу сплетни и многословие. Ненавижу «лишние заметки». Я предпочитаю рискнуть сказать недостаточно, чем сказать слишком много. В этом моя музыка очень французская, и я думаю, как Вольтер, что «секрет скуки в том, чтобы говорить все». Чтобы «сказать все», я предпочитаю предлагать, и вместо того, чтобы рискнуть утомить переводчика и слушателя потоком информации, я предпочитаю обострить свое чувство недосказанности и стимулировать переводчика, подталкивая его. за пределами нот, чтобы сказать более вертикально, более чем горизонтально, и подтолкнуть слушателя снова послушать мою пьесу, чтобы каждый раз обнаруживать избыток смысла.
— 10 современных композиторов, Бетховен, Моцарт, Вагнер, Бах. Какие отличия?
Любой. С лучшими композиторами сегодня нет разницы в уровне. Разница только кажется существующей, потому что мы (то есть большинство людей сегодня и, увы, большинство музыкальных критиков) не задним числом можем различить, кто из бесчисленных музыкантов, пишущих музыку сегодня, действительно великие композиторы.
Я никогда не поддержу идею о том, что великих композиторов сегодня больше нет, потому что язык современности мешает меломанам «найти» себя в музыке своего времени. Моцарт не писал, как Гендель, Вагнер не писал, как Бетховен. Почему мы хотим, чтобы современные композиторы писали, как Вагнер? Это абсурд! Конечно, необходимо усвоить культуру слушания.
Сказав это, мне кажется, что великая музыка сегодняшнего дня, если она может показаться сложной на первый взгляд, может быть довольно быстро приручена и любима, если кажется необходимым поддерживать контакт с создателями нашего времени.
В великой музыке, написанной с пятидесятых годов, четко прослеживаются две тенденции. Та, что считает субъект мертвым (субъект в философии — это человек) и выдвигалась по геополитическим причинам со времен холодной войны и заключалась в радикализации эстетических вариантов реальности, существовавшей ранее. с начала ХХ века (школа Вены и Варезе).
Вторая — та, которая сдерживалсь интернационализацией, потому что считалась слишком мало модернистской по отношению к вызовам холодной войны, которая заключалась в выполнении противоположного тому, что нацизм пропагандировал до 1945 года. Советский Союз будет отстаивать его после 1945 года. Эта тенденция считает, что субъект, конечно, ранен, но он не мертв. В его ряды входят некоторые композиторы из Восточного блока, такие как Виктор Калабис, а также очень великие американские и английские композиторы, такие как (чтобы назвать только композиторов поколения Булеза, то есть родившихся между 1920 и 1929 годами) Кеннет Лейтон, Питер Меннин или Роберт Симпсон,
Под влиянием первой тенденции, тенденции, которую можно назвать Dramstadtienne, которая до сих пор так хорошо оценивается тем, что стало институтом современной музыки, я вернулся ко второй. Я говорю «вернулся», потому что это была моя тенденция, когда я начал сочинять, между 1976 и 1980 годами. Но произведения, написанные в этот период, были по большей части фрагментарными и были переработаны, возможно, переработаны и отредактированы в начале 21 века.
Это второе направление разделяет с первым значительную часть источников: Венскую школу. Однако, вопреки дармштадтской тенденции, она добавляет Бартока, Стравинского, Прокофьева (даже Хиндемита или Шостаковича) как модернистов того же времени, что и Шенберг, Берг и Веберн, не порвав с тональностью. И в этом вся разница.
Мне кажется, что этот элемент языка, тональность или, по крайней мере, тональное ощущение, является основополагающим, чтобы не впасть в абстракцию и церебральность, часто критикуемую в современной музыке.
Мне также кажется, что очень скоро мы увидим, что остатки тональности, сохраняющиеся в тенденции, которую я защищаю, будут играть определяющую роль в сохранении гуманистической идеи. Эта идея – то, что могло бы помочь сохранить человека сегодняшнего дня, соизволившего часто слушать музыку своего времени….
Действительно, гигантская цифровизация мира, которая происходит в настоящее время (и которая предполагает смерть субъекта, предложенного послевоенными философами), рискует заточить то, что осталось от человека, в планетарном плутократическом обществе авторитарного типа, основанном на искусственном интеллекте и технократия, в которой мы уже сегодня можем видеть то, что скрывает пугающие угрозы.
Я не уверен, что искусство, сохранившее связь с традициями, – это, к сожалению, то, что может помочь ему спастись. Наше общество как кошка: слишком долго теряло связь с типом современного художника, который мог бы спасти его от заблуждения до точки, в которой оно заблудилось. Это было историческое событие, которое было упущено, и мы не сможем вернуться назад. Мы предпочитали художников-антигуманистов другим, и мы не должны удивляться, вступив с такой легкостью в общество, которое будет яростно отвергать то, что всегда было прерогативой людей, в пользу тоталитарного коллективизма, который, конечно, примет маску альтруизма, чтобы вырвать их согласие у загипнотизированных масс потребителей, которыми мы станем.
Но, по крайней мере, если мы продолжаем петь, писать музыку, основанную на тех же основаниях, что и то, что люди инстинктивно считали «музыкой», не сумев предотвратить нас от погружения, это убережет нас от символического сопровождения этого поражения мысли, этого кораблекрушения культуры и художественного феномена, к которому стремятся сегодняшние элиты.
Январь 2020 г.